5 способов стать писателем
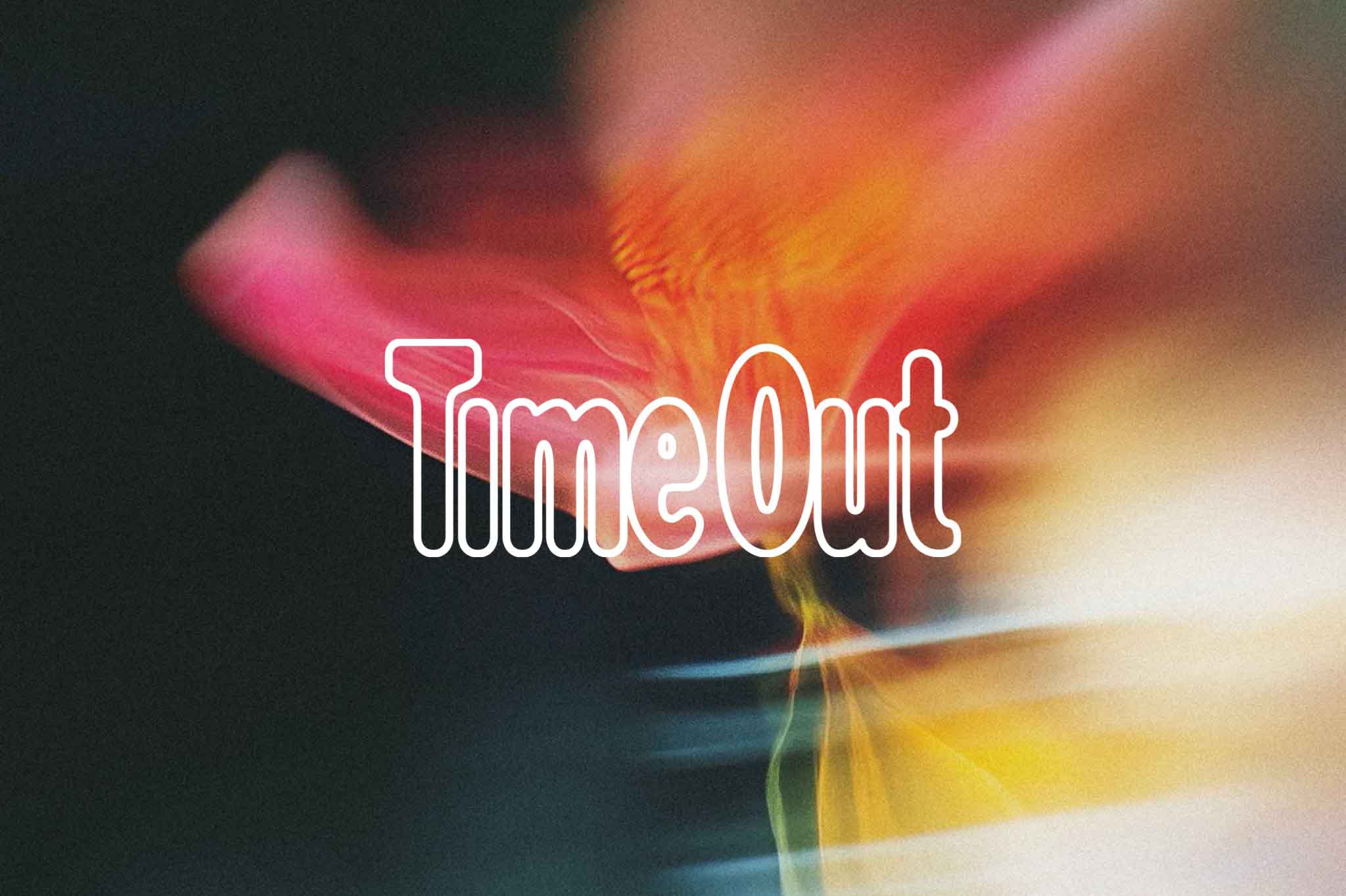
1. Толстые журналы
В советские времена, когда никакой "всемирной паутины", кроме линии электропередач, еще не было, а люди писали друг другу вполне себе бумажные письма, среди молодых авторов было принято отправлять пухлые конверты с рукописями в газеты и журналы. Напечатали — значит, талант. Вернули — пиши по новой или вовсе не берись, потому что не выйдет из тебя писателя.
Кузницей молодых писательских кадров считались толстые литературные журналы: "Новый мир", "Октябрь", "Знамя", "Дружба народов" и "Юность". С журнальных публикаций начинали практически все советские классики: Солженицын принес "Один день Ивана Денисовича" в "Новый мир" и носил не один раз, правя еще несколько месяцев, пока не получился шедевр. Борис Васильев, ни на что не надеясь, отправил "А зори здесь тихие…" в "Юность".И только после того, как у автора накапливалось какое-то количество журнальных публикаций, он мог рассчитывать на книгу.
Сейчас эти толстые журналы тоже существуют, но степень их влияния сильно поубавилась. Вы можете отправить им рукопись, и, может быть, они даже ее напечатают. Это будет хорошей стилистической школой, потому что в толстых журналах до сих пор остались прекрасные редакторы, которые умеют сделать из небездарного текста талантливый. Но издатели к вам толпой не повалят. Казахстанских литературных журналов вряд ли с десяток наберётся. Из тех , что на слуху и распространяются по подписке, можно назвать, пожалуй, только Amanat, "Простор" и "Ниву". Последние два — вполне себе кастовые издания Союза писателей Казахстана, застрявшие в советской эстетике. Такой закрытый клуб, давно уже ни на что не влияющий, ни на вкус, ни на литературное пространство: новые имена, старые имена — в основном интересны в антропологическом, а не литературном смысле. Бывают исключения, но их приходится долго искать. Amanat — журнал более высокого уровня, но старается не рисковать, публикуя за редким исключением уже состоявшихся авторов. Альтернативный вариант — отечественный журнал "Ышшо Одын", в своем манифесте призывающий прекратить нытье на тему "как все плохо с авторами на родине" и начать делать дело. Свое дело издание начало с того, что вошло в Международный альянс русскоязычных литературных журналов. Здесь рукописи принимают охотно, правда, в основном поэзию. Однако, если вы решите прислать эссе, возражать никто не будет.
Журнал "Знамя":
699 5238, holmogorova@znamlit.ru, заведующий отделом прозы — Елена Холмогорова
Журнал "Новый мир":
694 0829, nmir2007@list.ru, редактор отдела прозы — Руслан Киреев, редактор отдела поэзии — Павел Крючков
Журнал "Октябрь":
614 5168, заведующий отделом прозы — Павел Белицкий
Журнал "Арион":
650 1783, arion@arion.ru, редактор отдела поэзии — Дмитрий Тонконогов (присланные электронной почтой тексты не рассматриваются. Адрес, по которому можно выслать рукопись: 127006, Москва, Садовая-Триумфальная, 12/14, комн. 12)
Журнал "Простор":
Алматы, пр. Абылай хана, 105
Журнал "Ышшо Одын":
http://sites.google.com/site/yssoodyn/
2. Интернет
Сейчас стать писателем может каждый второй, если не каждый первый. Для этого нужно просто завести ЖЖ и вывешивать там свои тексты. Лишь бы хватило ума, оригинальности и таланта. Например, из интернета в бумажную литературу пришла "тысячница" Марта Кетро. Ее просто заметили и стали публиковать на бумаге — сначала в сборниках, а потом и отдельными изданиями.
Автор "Метро 2033" и "Сумерек" Дмитрий Глуховский тоже оттуда. Он начал писать главы романа "Метро 2033" и по мере написания вывешивать их в интернете. Читателям страшно нравилось, что произведение творится буквально на их глазах. Автор советовался с читателями по поводу некоторых технических деталей устройства метрополитена и мог даже прислушаться к советам по поводу дальнейшего развития коллизии.
Когда в 2005 году книга наконец вышла в бумажном виде, все те, кто прочел ее в Сети, купили и прочли еще раз — уже в метро.
Кроме того, очень полезно читать сайты литературных журналов и онлайн-библиотеки. И делать это постоянно. Чтобы не переписывать написанное предшественниками. Что до публикаций — там же, на сайтах журналов — посылать рукописи. Открытые площадки вроде стихов.ру и прозы.ру — бессмысленная трата времени. В интернете нужно искать реальные издательские площадки, а не сотню собратьев по графомании. То есть посылать нужно рукописи на авторитетные конкурсы, писательские форумы (не виртуальные), соискание премий и прочее. Большинство международных литературных конкурсов либо задействует интернет для пересылки произведений (как "Русская премия") либо полностью проводится в сети (как конкурс журнала "Крещатик")
Конкурс "Русская премия"
http://russpremia.ru
Поэтический конкурс журнала "Крещатик"
www.kreschatik.nm.ru/konkurs/index.html
3. Литературный конкурс
Теоретически вы можете отправить свое неопубликованное произведение на соискание любой литературной награды, куда принимают рукописи, но для молодых авторов есть специальный конкурс — премия "Дебют". Рукописи принимаются каждый год с 3 июня по 20 сентября. Затем их читают члены отборочной комиссии, потом жюри, а в середине декабря происходит торжественная церемония объявления и награждения лауреатов.
Премия вручается в номинациях "Крупная проза", "Малая проза", "Поэзия", "Драматургия", "Эссеистика". Возрастное ограничение для авторов-соискателей — 25 лет. В случае победы вам светят гонорар в 200 000 рублей, мастер-классы у специалистов (для финалистов) и издание вашего произведения за счет премии. Казахстанских аналогов "Дебюту" нет. Масштабом и профессионализмом не вышли. Есть конкурс "Шабыт", несколько областных и городских, регулярные конкурсы на лучший тематический рассказ, стихотворение, очерк — но профессионализм участников и жюри этих конкурсов оставляет желать много лучшего. Достаточно прочитать работы победителей, чтобы это увидеть. Но для этого эти работы надо ещё найти. Что практически невозможно, — конкурсы вроде есть, но почти не освещаются в прессе.
А теперь сравните — даже длинный список "Дебюта" — это несколько десятков авторов, отобранные из нескольких десятков тысяч молодых писателей (в 2009 году число претендентов перевалило за 50 000) ,что уже говорить о шорт-листе. То есть, организаторы премии говорят издателям и редакторам — вот, коллеги, мы провели отбор и рекомендуем присмотреться. Кстати и в лонг- и в шорт-лист "Дебюта" регулярно входят казахстанские писатели: Айгерим Тажи, Айя Шакенова (шорт-лист 2003), Вера Бочкарёва, Оксана Барышева (премия "Молодой Русский мир"-2008г), Дина Гудым, Абат Нагиметов, Владимир Воронцов.
Премия "Дебют": info@mydebut.ru
4. Журналистика
Это путь долгий, окольный, и не понятно, не утратите ли вы в процессе его прохождения конечной цели. Предлагается сначала поработать журналистом, поднабраться опыта и фактуры, приобрести легкость пера, а уже потом садиться за монументальный роман или рассказы, или стихи. Например, известный детский писатель Корней Иванович Чуковский поначалу работал журналистом и даже был на некоторое время отправлен в Лондон в этом качестве. С газетных очерков о войне, подписанных "Кирилл Лютов", начинал Бабель.
Однако, став писателем, журналистику можно и не бросать. Как это сделали, например, Андрей Колесников, который свои репортажи из Кремля затем перерабатывает и превращает в книги, и Владимир Соловьев, вообще совмещавший до недавнего времени такое количество занятий, что оставалось неясно, когда же он свои сочинения пишет. Через журналистику к книгоизданию пришел и журналист помоложе Максим Семеляк. Он сначала много лет ездил с группой "Ленинград" на гастроли, пил с ее участниками водку литрами, а потом изложил историю группы в книге "Музыка для мужика". Примерно таким путем в писатели затесались Артемий Троицкий (о советском андерграунде) и Михаил Марголис ("Затяжной поворот. История группы "Машина времени"). Вполне, кстати, достойный путь — главное, чтобы выдержала печень.
5. Сразу в издательство
Можно нигде не печататься, никуда своих текстов не посылать и никому вообще их не показывать. Можно просто написать роман или повесть, прийти сразу в какое-нибудь издательство и попросить напечатать. При этом здорово, если вы знакомы с кем-то из руководства или даже владельцев издательства — тогда ваши шансы значительно повышаются. Если нет, тогда ваш текст должен быть по-настоящему гениальным, чтобы его сразу взяли и напечатали. Или обладал всеми признаками бестселлера.
5 составляющих успешной книги
1. Интересный сюжет
Чтобы люди любого возраста и пола читали и не могли оторваться.
2. Актуальная тема
Предел мечтаний — занять не занятую ранее нишу, как это сделали Оксана Робски и Сергей Минаев.
3. Хороший язык
Безграмотная речь или излишне тяжеловесные фразы не прибавят вашей книге популярности.
4. Грамотное продвижение книги на рынок
Издатели должны упаковать вашу книгу в обложку, которая понравится покупателю, и провести рекламную кампанию, которая привлечет внимание читателей к вашей книге. Остальное сделает сарафанное радио.
5. Фигура автора
Сейчас работа писателя не заканчивается со сдачей текста в издательство. Если писатель хочет быть популярным, он должен стать медийной фигурой: встречаться с читателями, давать интервью и высказываться на общественные темы. Единственное исключение — Виктор Пелевин, сделавший отказ от публичности актом самопиара.
8 экранизаций, которые убили книгу
"Парфюмер" Тома Тыквера, 2006
У Патрика Зюскинда (1985) содержание определяет форму, а в экранизации Тыквера форма — содержание.
"Лесной царь" Фолькера Шлендорфа, 1996
Сложный роман Мишеля Турнье (1970) не "поместился" в экранизацию.
"Обитаемый остров" Федора Бондарчука, 2009
Киноверсия романа Стругацких (1968) наводит на мысль, что роман так же небрежен, как картонные декорации в кинодилогии.
"Про Федота-стрельца" Людмилы Стеблянко, 2008
В мультфильме Маруся исполняет танец живота под "Любэ". Леонид Филатов, написавший сказку в 1985-м, переворачивается в гробу.
"Московская сага" Дмитрия Барщевского, 2004
Трилогия Василия Аксенова про сталинскую эпоху (1992) превратилась в капустник с плохо загримированными актерами.
"Мастер и Маргарита" Владимира Бортко, 2005
Пример того, как "дословная" экранизация лишает оригинальные (1966) слова Михаила Булгакова всякого смысла.
"Доктор Живаго" Александра Прошкина, 2005
Еще одно подтверждение того, что роман Бориса Пастернака (1957) не поддается экранизации.
«Тарас Бульба» Владимира Бортко, 2009
"Патриотическая" редакция повести Н. В. Гоголя (1842) превратилась в агитационный плакат про новую Россию.
7 экранизаций, спасших первоисточник
"Жестокий романс" Эльдара Рязанова, 1984
Кто бы знал содержание пьесы Островского "Бесприданница" (1878), если бы не история любви Ларисы Гузеевой и Никиты Михалкова и не песня "про шмеля"?
"Пианистка" Михаэля Ханеке, 2001
Самый известный и самый не поддающийся прочтению роман нобелевской лауреатки Эльфриды Елинек (1983) — читать невозможно, от экрана не оторваться.
"Семнадцать мгновений весны" Татьяны Лиозновой, 1973
Литературную основу (Юлиан Семенов, 1968) помнят только наши дедушки, а крики по поводу раскраски любимого сериала запомнят и наши внуки.
"Опасные связи" Стивена Фрирза, 1988
Благодаря экранизации морализаторского эпистолярного романа Шодерло де Лакло любовные интриги XVIII века сошли за эротический триллер.
"Багровые реки" Матье Кассовица, 2000
Автор триллеров Гранже хорошо придумывает сюжеты, но не умеет писать. Поэтому его роман (1998) лучше смотреть, а не читать.
"Беовульф" Роберта Земекиса, 2008
Раньше этот средневековый эпос X—XI веков могли пересказать только студенты филологического факультета. Теперь он занимает почетное место в фильмографии Анджелины Джоли.
"Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна, 1966
Помните повесть 20-х Павла Бляхина "Красные дьяволята"? Нет? Мы тоже.
7 экранизаций, проклятых писателями
"Форрест Гамп" Роберта Земекиса, 1994
Студия Paramount не заплатила Уинстону Груму за экранизацию его романа ни пенни, хотя фильм собрал 670 млн. долл. А вы думали, что такое только в России случается?
"Интервью с вампиром" Нила Джордана, 1994
Энн Райс скорее делала вид, чем серьезно возмущалась. Сначала на все согласилась, а потом говорила, что все не так, а Том Круз — не вампир.
"Прощай, оружие!" Фрэнка Борседжа, 1932
Из всех экранизаций своих романов Эрнест Хемингуэй больше всего не любил именно эту с Гари Купером — за перевранный финал и чрезмерный романтизм.
"Солярис" Андрея Тарковского, 1972, Стивена Содерберга, 2002
Станислав Лем исхитрился проклясть свой "Солярис" дважды. Сначала он насмерть разругался с Тарковским, а потом едва пережил голый зад Клуни.
"Меньше нуля" Марека Каневски, 1987
Брет Истон Эллис отказался даже от просмотра фильма. Знал — от его дебютного романа в картине остались только название и имя главного героя.
"Сияние" Стэнли Кубрика, 1980
Стивену Кингу в этом фильме не понравилось все — Джек Николсон, который даже через экран заражает безумием зрителей, и Кубрик, который не мог справиться с алкоголизмом Николсона.
"V значит “Вендетта”" Джеймса Мактига, 2006
Знаменитый автор комиксов Алан Мур проклял все экранизации своих произведений. Но эту он ругал особенно.
8 экранизаций, которые не хуже книги
"Собачье сердце" Владимира Бортко, 1988
Образец адекватного перевода литературного произведения в киноформат. Михаил Булгаков остался бы доволен (1987).
"12 стульев" Леонида Гайдая, 1971, Марка Захарова, 1976
Роман Ильфа и Петрова (1927) по-разному хорош в обеих версиях.
"Бойцовский клуб" Дэвида Финчера, 1999
Фильм не такой жестокий и ироничный, как книга Чака Паланика (1996), но агрессивный протест против общества потребления на месте.
"Полет над гнездом кукушки" Милоша Формана, 1975
Кену Кизи не понравилось, что сделали с его романом (1962), однако фильм получил 5 "Оскаров". С этим трудно спорить.
"Заводной апельсин" Стэнли Кубрика, 1971
Энтони Берджесс написал роман (1962), как только врачи ему сообщили, что у него опухоль мозга. Самое время задуматься о сущности насилия.
"Часы" Стивена Долдри, 2003
Ради роли в экранизации романа Майкла Каннингема (1999) Николь Кидман согласилась изуродовать свою внешность и получила за свой подвиг "Оскар".
"Приключения Шерлока Холмса", 1979—1983
Орден Британской империи Василию Ливанову от королевы Елизаветы II — что тут добавить?
"Властелин колец" Питера Джексона, 2001—2003
Превратить не одну тысячу страниц трилогии Толкиена (1954—1955) в популярную кинотрилогию и ничего не перепутать — работа, достойная уважения.
Борис Акунин
Качественный текст + грамотная подача + везение
"Формула бестселлера слагается из трех компонентов: качественный текст + грамотная подача + везение. Первое зависит от пишущего, второе — от издающего, третье — Сами Знаете От Кого. Иногда бывает, что хромает первый компонент, но второй и третий очень сильны и вытягивают книжку. Бывает, что слаб второй компонент, тогда книга все равно может стать бестселлером, но не сразу. Однако без третьего компонента никакой текст, даже самый расчудесный, превосходно оформленный и идеально прорекламированный, настоящим бестселлером не станет", — рассказал Time Out Борис Акунин.
Видимо, все три компонента сошлись, когда в 1998 году вышел дебютный роман «Азазель» некоего автора, скрывшегося под псевдонимом Б. Акунин. Все гадали, кто бы мог это написать. Среди претендентов на роль автора называли, например, теперешнего проректора РГГУ Дмитрия Бака — потому что занимается русской литературой XIX века и пишет легко. Позже выяснилось, что это, разумеется, гуманитарий, но не русист, а японист, переводчик и критик, который познакомил российского читателя с текстами Юкио Мисимы, — Григорий Чхартишвили.
Книги сделали Чхартишвили самым состоятельным российским писателем. По оценке русского издания Forbes, они принесли Акунину с июля 2004-го по июль 2005 года около 2 миллионов долларов, а с июля 2005-го по июль 2006 года — 1 миллион 200 тысяч долларов, позволив занять ему соответственно 19 и 48—49 места в рейтинге наиболее богатых представителей российской культуры и шоу-бизнеса.
Дмитрий Быков
Бестселлер — вещь, как правило, разовая
Только в случае, если вы приурочиваете бестселлер к некоторому событию, у вас есть шанс. Что выстрелило в случае с моей книгой о Пастернаке? Во-первых, сама серия "ЖЗЛ" переживала тогда реформы: из серии довольно сухих биографий официальных лиц она превратилась действительно в жизнь замечательных людей. Там появились спорные персонажи, люди, которые находились в центре общественного внимания, но в советские и постсоветские времена было не до них.
Потом Пастернак — это фигура, всегда привлекавшая внимание, удивительный феномен и судьбы, и таланта, один из немногих случаев гениальности в России ХХ века. Биографический жанр в постсоветские времена очень востребован, потому что людям нужны ориентиры. Они в большей степени утрачены, и поиск этих ориентиров в чужих биографиях — естественное дело. Потом у Пастернака широкий круг читателей сам по себе — не просто любители, но и школьники, и студенты, и так далее.
Бестселлер — вещь, как правило, окказиональная, разовая. Это книга, которая в какой-то момент широко продалась, а оказала ли она влияние на последующие вещи — мы не знаем. Это явление в лучшем случае одного года, а чаще всего нескольких недель. Совпадение бестселлера с классикой — крайне редкое явление. Я могу их по пальцам перечислить: "Мастер и Маргарита", "Лолита", "Доктор Живаго", "Убить пересмешника".
Сергей Минаев
Если бы существовал рецепт бестселлера, их было бы как собак нерезаных
Написать бестселлер нельзя, потому что если бы существовала рецептура, как стать за 35 минут успешным автором, то у нас бестселлеров было бы на рынке как собак нерезаных. Любой бестселлер — всегда комбинация материала и времени, в которое он выходит, совпадение некоторых вещей в одной точке. Это как феномен "Духless’а", который никто не может объяснить, в том числе и я. Откуда 700 000 напродавали — непонятно.
В книге должен быть нерв, какая-то особая духовность, иначе не цепляет. Сколько книг напичкано модными образами и вроде как про актуальные события, но они никому не нужны, потому что просто не цепляют. Не знаю, почему, — если бы знал, по книжке в месяц писал бы.
Если мои книги перестанут продаваться, у меня много еще чего останется — есть бизнес (винный. — Прим. Тime Оut), телевидение ("Честный понедельник" на канале НТВ. — Прим. Тime Оut), радио ("60 минут с Сергеем Минаевым" на "Русской службе новостей". — Прим. Тime Оut). Для меня писательство — это фан. Если тебе нечего больше сказать, ну что ты лезешь? Как говорит товарищ Кач, "нет подвига — не х… лезть".
Владимир Сорокин
Научиться писать бестселлеры можно — это продемонстрировал Набоков
Научиться писать бестселлеры, думаю, можно — это продемонстрировал, например, Набоков. Сел и написал "Лолиту", которая сильно отличается от всего написанного до этого. Идея этого романа — "сделать Запад". Буквально. Запад, который был равнодушен к Набокову десятилетия.
С "Лолитой" он попал в десятку и стал культовым автором. Эта книга практически сразу сделала его известным писателем. Так что теоретически это возможно. Я такой задачи не ставил, потому что у меня не было периода затянувшейся безвестности. Когда я был в андерграунде, люди, мнением которых я дорожил, меня прочитали и приняли. Я был удовлетворен. Потом я довольно рано напечатался на Западе — мне было 29 лет. Была отличная пресса. Что касается денег, то на жизнь их хватало, а миллионы литературой я не заработал, и, может быть, слава богу. Это избавило от многих искушений. Ведь бестселлер — это обращение ко всем. Ни в "Дне опричника", ни в "Сахарном Кремле" я задачи такой не ставил. Наверное, у меня бы это и не получилось. По разным причинам.
Что будет, если перестанут покупать мои книги? Многие писатели зарабатывают журналистикой, например. А потом у меня есть как минимум еще две профессии — это художник-график и, я думаю, повар. Приготовить стейк под грибным соусом или царскую уху я могу запросто. Так что на жизнь я себе заработаю.
Полина Дашкова
Возможность написать бестселлер — слабое утешение для неудачников
Написать запрограммированный бестселлер нельзя. Само предположение, что это возможно, — слабое утешение для литературных неудачников. В качестве иллюстрации могу рассказать историю об одной английской писательнице, с которой я выступала. Когда мы с ней услышали вопрос, который уже и для нее, и для меня совершенно невыносим: "Где вы берете сюжеты?", она рассказала, что существует закрытый секретный сайт в интернете, где хранятся любые сюжеты. И каждый сюжет — потенциальный бестселлер. Когда автор успешно издает первую книгу и видно, что он перспективен, издатель дает ему ключ-код к этому сайту. Он туда залезает и там распоряжается как угодно — берет что ему хочется.
Возможно, существуют рецепты раскрутки книги. Сейчас уже нет, а года полтора назад, когда был расцвет литературного гламура, рецепт бестселлера заключался не в том, как написать, а в том, как продать.
Существуют пиар-технологии, которые позволяют продавать любую ерунду. Самый яркий пример — Дэн Браун. Очень слабое произведение, особенно на уровне высочайшей американской школы в жанре исторического конспирологического триллера. Слабенькое, кое-как написанное на основе откровенного плагиата, но раскручено в мировом масштабе. Это пример гениального пиара. Но это все очень ненадолго. Следующие книги Брауна продавались все хуже и хуже, читать их невозможно, фильмы собирают бешеные деньги, но с них люди уходят. Знаете, какое самое не читанное, но до сих пор безумно популярное произведение? "Майн кампф" Гитлера. Скучнейший текст, кое-как состряпанный, переписанный несчастным монахом-расстригой, которого потом уничтожили. Но это был супербестселлер, огромное количество переизданий.
Если возникает иллюзия, что существует нечто вроде литературной кулинарной книги, то лучше вообще не браться. Писать нужно о том, о чем ты не сказать не можешь. Тогда есть шанс, что это будут читать.
Если мои книги перестанут покупать, я все равно буду писать книги. В стол. Во-первых, у меня есть муж, который работает и зарабатывает. В нашей жизни случались разные периоды, я думаю, он меня прокормит. Во-вторых, я могу переводить. Не знаю, что-нибудь придумаю. Сколько писателей в советское время писали в стол — на что-то же они жили. У меня был период, когда меня тянули в телеведущие, даже был некий опыт. Я сбежала оттуда очень быстро. Есть люди, для которых литература — хобби. Это нормально, они ее совмещают с другой активностью. Для меня это не так. Я только пишу и больше ни в чем себя не мыслю.
Сергей Лукьяненко
Я на писательские гонорары живу уже лет 15
Если сознательно ставить такую цель, то написать бестселлер нельзя. Это подтверждается примерами большинства бестселлеров, которые прогремели за последнее время: это и "Гарри Поттер", и "Код да Винчи". Как правило, автор попадает в тему, которая захватывает миллионы, случайно. Есть масса факторов, способных увеличить вероятность этого попадания: и насколько хорошо написан текст, и насколько мысли автора созвучны с мыслями читателя. Но все попытки после удачи какой-то идеи собрать под эту идею еще огромное количество читателей были неуспешны. На тему "Кода да Винчи" и "Гарри Поттера" появлялась масса вариаций. Ни одна из них не стала бестселлером.
Автор должен не только понимать интересы читателей, но и разделять их. Быть заинтересованным в том, что пишет, даже если и делает это с учетом вкусов своей публики. Иначе будет чувствоваться фальшь. Я обсуждаю с читателями свои книги, но не всегда следую их советам.
Если мои книги перестанут покупать, то буду работать в смежных отраслях — сценарии для кино и компьютерных игр, на худой конец попытаюсь вспомнить профессию врача, которой когда-то учился. Хотя не думаю, что из меня получится хороший врач, слишком много времени прошло. Я на писательские гонорары живу уже лет 15. Разумеется, 15 лет назад я зарабатывал гораздо меньше, чем сейчас, но на жизнь мне и тогда хватало. 12 лет назад, переехав в Москву, я смог купить себе квартиру. Я не думаю, что мои авторские доходы упадут ниже такого уровня, чтобы я не смог зарабатывать хотя бы на уровне квалифицированного врача. Разве что совсем разучусь писать.
Наша соотечественница Айя Шакенова ярко себя проявила в драматургии. Жюри «Дебюта» это отметило, равно как и все остальные, кто следит за конкурсом. На девушку возлагали большие надежды, но после собственного дебюта Айя в буквальном смысле пропала. Найти ее не могут ни коллеги, ни издатели. Time Out будет признателен всем, кто поможет разыскать драматурга.
