4 новых книги об эпохе застоя
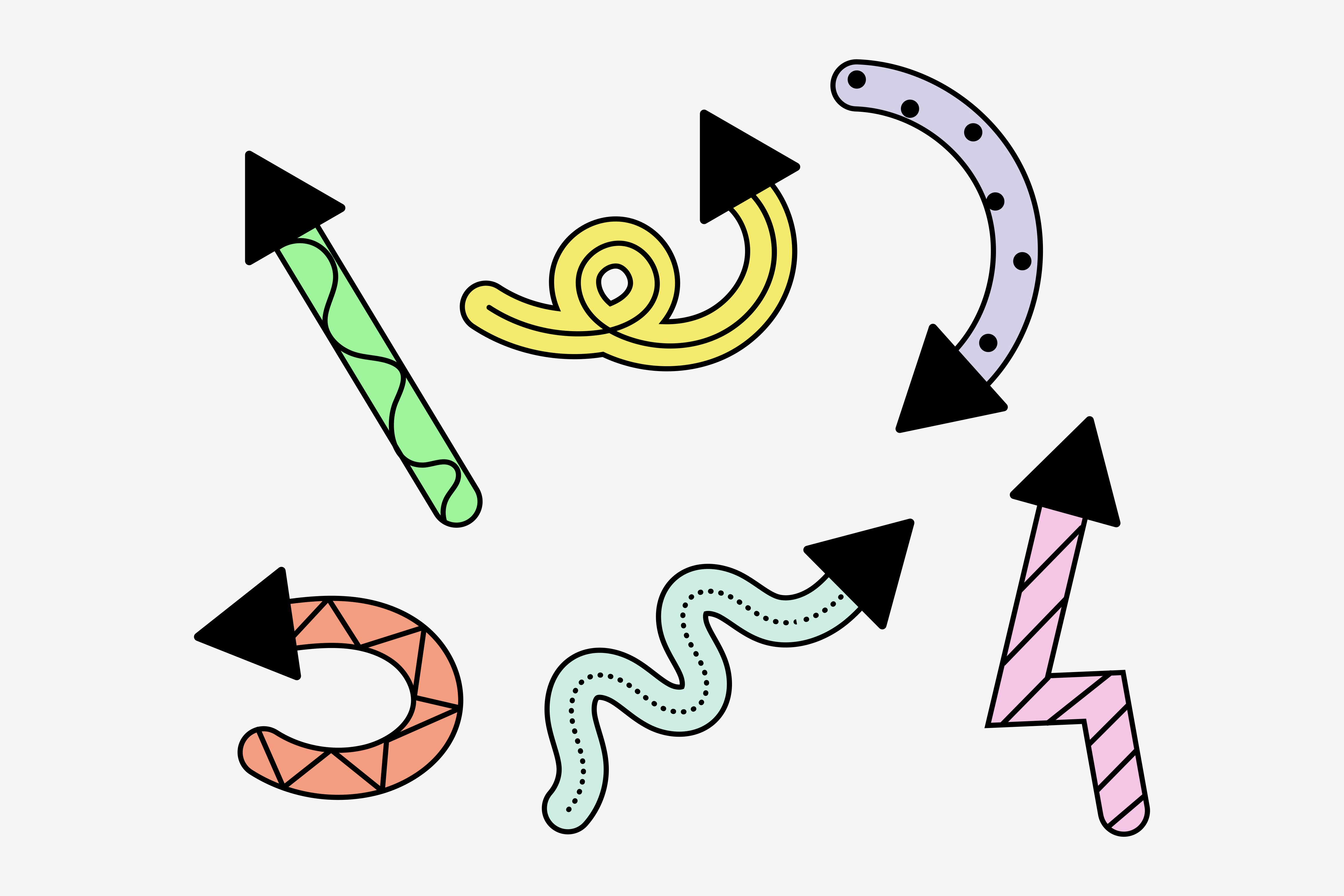
Удивительная вещь: как прошлое становится историей. Скажем, 1991 год окончательно историей еще не стал, то есть он не осмысляется отстраненно, он еще не оброс мифами в достаточной степени, еще слишком жив. Сейчас в поле исторической рефлексии оказываются 70–80-е годы прошлого века. А еще совсем недавно актуальны были споры о 60-х. Любопытно и другое. Первоначальное осмысление истории происходит не в публицистике, а в беллетристике. Художественный способ высказывания дает гораздо большую свободу. И когда тот или иной период времени становится объектом художественного осмысления — это первый знак того, что наметился существенный сдвиг: очередной пласт прошлого оформился как история. И, следовательно, стал предметом исторической оценки.
Так вот, именно позднесоветский период, «эпоха застоя», сегодня оказывается в центре внимания литературы. По крайней мере, четыре книги об этом времени вышли в течение нынешнего года: «Зеленый шатер» Людмилы Улицкой, «Игра в ящик» Сергея Солоуха, «ВИТЧ» Всеволода Бенигсена и «Жена декабриста» Марины Аромштам (последняя появилась в продаже буквально только что). Вместе эти четыре романа представляют любопытный ряд. Первое, что бросается в глаза, — авторы принадлежат разным поколениям, то есть на 80-е годы пришлись принципиально различные периоды их жизни. А потому показательна и разница в описании 80-х.
«Зеленый шатер» Улицкой — наиболее ретроспективен. Прошлое у нее вырастает из еще более далекого прошлого (уже более или менее осмысленного). То есть 70–80-е непосредственно связаны с послевоенной эпохой. Примечательно, что именно этот период лучше всего «прописан». А вот часть романа, посвященная брежневской эпохе, рассыпается, лишается романной целостности, распадается на куски. Историческая ретроспекция у Марины Аромштам сдвинута на шаг. Довоенное и послевоенное время — здесь лишь предыстория. Кстати, и роман менее масштабен, вместо хроники нескольких семей и, как следствие, сложных переплетений в судьбах героев — мир одной семьи, судьба героини и любовная драма как центральный момент повествования.
Сергей Солоух вроде бы не так далеко отступает от семейной хроникальности, но все-таки художественной доминантой здесь оказывается другое. Жизнь режимного института, «ящика», узнаваемая атмосфера «закрытого» научного городка. Наконец, Бенигсен тему закрытости, герметизма делает центральной, доводит ее до аллегории. В ЗАТО «Привольск-218», где находятся институт и завод по переработке отходов химического производства, свозят диссидентов. Город становится полигоном эксперимента КГБ: диссидентов изолируют, но предоставляют им полную свободу творчества.
При всем несходстве этих текстов объединяет их как раз тема диссидентства (шире — инакомыслия). Но у каждого эта тема звучит по-своему. Улицкая скорее ограничивается описательностью, свидетельством — кто такие были диссиденты, как жили. Это диссидентство, погруженное в быт. Аромштам делает акцент на личной судьбе, социальных штампах, мифах и следствиях мифологического мышления. Солоух — отчасти романтизирует брежневское время (но только отчасти) и с грустью замечает — прошла романтическая эпоха, начался «другой эон», но по сути властители и социальная структура остались прежними. Отсюда пессимистический вывод. «Ящик» остается «ящиком» — мертвым местом, которое невозможно изменить, перестроить.
У Бенигсена закрытость и герметизм в другом. Советскость выражается в том, что серость, творческая неполноценность возведена в культ. И в этом есть вина так называемых инакомыслящих. Социальный протест они поставили выше творчества, то есть творчество свели к этому протесту. В этом он видит истоки болезни — ВИТЧа (вирус иммунодефицита творческого человека).
Но, несмотря на популярность Улицкой и неутихающие споры вокруг романа Бенигсена, наиболее привлекательным в этом ряду оказывается Сергей Солоух. Он нашел если не метод художественного осмысления 80-х, то во всяком случае интонацию, которая оказывается больше идеологии, больше публицистических рассуждений. Вот только масштабы его романа несколько снижают этот интонационный эффект.
